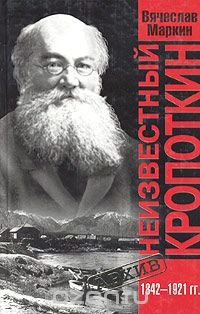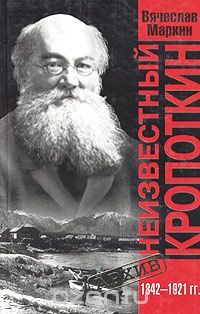Человек, к воротам которого прибился Васяня, был тюфяком.
И это был я. Васяня, своим звериным чутьем человека, живущего на улице — таким еще обладают бродячие собаки, — почуял мою слабину. И начал жить у наших ворот. Притащил к ним обоссанный матрац — он нес его в зубах, неуклюже переваливаясь с обрубка на обрубок, Маресьев хренов, — и стал на нем спать. Двигался Вася с трудом, кряхтел, сопел, ныл, так что я разжалобился. Как-то вынес ему плащ-палатку и пару теплых вещей.
— Это ты зачем? — спросила меня Наташа.
— Понимаешь, — сказал я, — я вот думаю…
— Что ты думаешь? — спросила она.
— Ну… — боялся я показаться странным.
— Валяй, — разрешила она мне.
— Мне кажется, — сказал я испуганным голосом, — а вдруг это…
— Что? — спросила она.
— Сам Иисус Христос… — прошептал я.
— Кто ты — и кто Иисус, — сказала она, смеясь.
Она поглядела на меня с удивлением. Пришлось объяснять.
— Ну, как в притчах этих сраных, — объяснил я, нервничая, — когда к тебе домой приходит нищий в гнойных язвах и просит глотка воды, а ты шлешь его на хер и.
— И?
— …и оказывается, что это сам Иисус приходил проверять твою доброту.
— Я не знала, что ты настолько верующий, — подняла она брови.
— Да я, в общем, не очень верующий, — запутался в объяснениях я.
— Ясно, — сказала она. — Ты просто думаешь, что это своего рода послание судьбы, и боишься оплошать перед ней.
— Во-во, — сказал я и закурил.
— Господи, милый, — сказала она.
— Бог — это не ревизор, а ты — не проворовавшийся бухгалтер, — сказала она.
— Кто ты — и кто я… — сказал я задумчиво.
— Если мы не знаем этого, зачем нам пытаться узнать что-то еще, — сказал я.
Пожал плечами, а вечером вынес Васяне-Обрубку поесть. Он поскулил о том, как ему тяжело дается этот простой, в общем, процесс, и мне пришлось, присев на корточки, перелить ему в жадную пасть всю тарелку супа. Потом, чтобы совсем уж не растрогаться, я убежал в дом, пожелав бомжу спокойной ночи.
Постепенно это — кормить бомжа — вошло у меня в привычку.
Наташа только пожимала плечами. Но отнеслась к этой моей причуде терпеливо. Хорошая она у меня была. Моложе на десять лет, грудь не очень большая, зато ляжки… Ляжки у нее были — чемпионы. Ляжки-Чемпионы. Она это знала и специально разбрасывала их по сторонам от себя на подоконнике той редакции, где работал я и куда она приходила на практику. Наташа увлекалась панком, роком, хиппи и всей прочей херней, благодаря которой девушки начинают трахаться в тринадцать, сосать в двенадцать и «успокаиваться» в двадцать. Примерно так вышло и у Наташи — замуж за меня она вышла к двадцати. Бросила плести фенечки и мечту работать в Москве — почему-то именно в «Нью таймс», — выучилась на переводчика и стала порядочной девушкой. Она была ужасно независимой и отказывалась от работы, если до нее было «чересчур далеко ехать». «Это в городе, который можно пешком за час пройти, твою мать, Наталья!» — хотел сказать я ей. Но молчал. Потому что содержала нас она. Меня, как расово неполноценного, уволили из газеты, так что я сидел дома. А Наташа — ну так недаром у нее фамилия была молдавская, Марар, — преуспевала. А я сидел дома, да. Готовил есть да трахал ее каждую ночь, чтобы не сбежала к кому помоложе. И постоянно говорил ей о том, как хорошо было бы нам куда-нибудь уехать.
Белозубая молдаванка Наташа только посмеивалась и говорила, что я драматизирую.
— У этой страны есть будущее! — говорила она.
По мне так это у нее было возрастное. Когда тебе двадцать, у всего в этом мире долбаном есть будущее. Потом это заблуждение проходит. С возрастом будущее мира исчезает и лопается вместе с пузырями твоей личной надежды — они истончаются, как стенки сосудов у старика. Кстати, меня совершенно не беспокоило то, что я нахожусь на содержании у жены. Мне было на это наплевать. Я сидел у себя в доме, доставшемся по наследству от уехавшей в Румынию матери и уехавшего в Россию отца, и глядел, как прекрасный некогда каменный город зарастает сорняками.
И где-то под моими воротами беспокойно ворочался Вася-Обрубок.
* * *
Перебрался он к нам в октябре. О том, что это случится, я знал уже в июле. Но продолжал оцепенело ждать, что же произойдет. Само собой, произошло все так, как и должно было. Наступила осень, и похолодало. Чуда не случилось. По утрам на асфальте видны были печати заморозков, и под моими воротами замерзал человек. И когда я подошел к Наташе и спросил, не можем ли мы пустить этого бездомного хотя бы на ночь в прихожую, она не удивилась. Хотя не очень обрадовалась. Еще бы!
Все бывшие хиппи ужасно жестокие и черствые люди.
Не потому, что они плохие, вовсе нет. Мне просто кажется, что они еще в юности исчерпывают весь свой запас доброты их сраной. Ну, когда они ездят за отсос по миру на чужих автомобилях, ебутся с поставщиками травки, чтобы сэкономить деньги, и плетут свои сраные грязные, никому на хуй не нужные фенечки. Но Наташа кроме того, что была бывшей хиппи и журналисткой — да-да! — была еще и моей женой. Так что она разрешила мне пускать Васю-Обрубка в прихожую на ночь. Она ведь помимо переводов занималась и семейной психологией.
— Твоя помощь этому несчастному поможет тебе отвлечься от собственной депрессии, — сказала она.
— О’кей, — сказал я.
Завалил ее на кровать, она обхватила меня своими длинными крепкими ногами, и я ей вдул. Спустил прямо в нее — она у меня была молодая и продвинутая, всегда заботилась обо всем сама, — и вышел покурить за ворота. А там как раз лежал Васяня.
Тогда-то я с ним в первый раз и поговорил.
— Мы можем пускать вас на ночь, — сказал я ему.
— Ох, спасибо, добрый человек, — обычной бомжовской скороговоркой затараторил он.
— Право, не за что. — Мне в то время доставляло особое удовольствие говорить на правильном русском языке.
ЯКОБЫ правильном, конечно. Том самом, на котором будут разговаривать актеры в кино «АдмиралЪ». Но я про такое тогда даже и не задумывался.
Так Вася-Обрубок перебрался к нам поближе. И уже на пятый день мы установили с ним нечто вроде эмоционального контакта.
— Мил человек, — сказал Вася-Обрубок, — ты, энто, не поможешь ли?
— К вашим услугам, — сказал я.
— Мне б поссать, — сказал он.
— О, — сказал я.
— Дык, — сказал он.
Мы помолчали.
— Мне б поссать, — повторил он.
— А как вы решали эту проблему раньше? — спросил я.
— Чо, — сказал он.
— Как раньше ссал? — спросил я.
— Под себя, — честно сказал он.
Я подумал. Потом, представляя себя пленным немецким офицером, который чистит подвалы Сталинграда от трупов, надел на руки резиновые перчатки и поднес под Васяню ведро. «А может, так надо», — думал я.
— Ну, ебтыть, — сказал он.
— Чо, — сказал я.
— Направить бы, — сказал он.
— Блядь, — сказал я.
— А то же, — обрадовался он более приемлемому в отношениях двух джентльменов тону и выражению.
Пришлось подержать. Минуты через две — Василий волновался и поэтому никак не мог расслабиться — в ведерко хлынуло. Напрудив не меньше коня, Василий меня поблагодарил и попросил застегнуть ему штаны. Что я и сделал. И впервые увидел Васин хер. Это было нечто феерическое. Огромный и грязный. Что-то было в нем… Что-то угрожающее… Нет, в некотором-то смысле я смотрел спокойно. Меня, как и большинство мужчин, беспокоила даже теоретическая вероятность склонности к гомосексуализму. Так что я, женившись на журналистке и психологе, первым делом велел проверить себя на этот счет. И набрал сто из ста. Гетеросексуал — гетеросексуальнее не бывает. Так что взглянуть на его хер я мог спокойно. Но как эстет — беспокоился. Было что-то грозное в этой штуке. Что-то от сомкнутой цепи белогвардейцев было в ней, что-то от неумолимой поступи фаланги… Меня передернуло.
— Ни хера себе хер, — сказал я.
И спрятал Васин член в штаны, застегнув их.
* * *
Время шло. Кишинев зарастал лианами все больше. Бродячие кошки сожрали всех крыс. Бродячие собаки сожрали всех бродячих кошек. Потом бомжи сожрали всех бродячих собак. А уж пьяных и спящих бомжей пообкусывали вновь расплодившиеся крысы. Город тонул в нечистотах. Сначала пропало уличное освещение, потом централизованное отопление. Наконец, перестала работать очистная станция, и в городе запахло говном. Для нас с Наташей это никакого значения не имело, потому что у нас И ТАК пахло говном. Из-за Васи-Обрубка, который спал теперь в прихожей не только ночью, но и днем. Как-то Наташа решила даже обсудить это со мной. Это и еще кое-что.
— Тебе не кажется, что для писателя ты чересчур мало пишешь? — начала она осторожно.
— Я вообще не пишу, — угрюмо сказал я, очищая для Васи-Обрубка морковку.
— Тебе не кажется, что немного странно для писателя не писать вообще, — поправилась она спокойно.
![Александр Кудрявцев - Я в Лиссабоне. Не одна[сборник]](https://cdn.my-library.info/books/113008/113008.jpg)